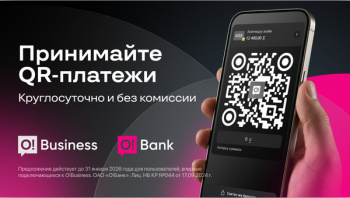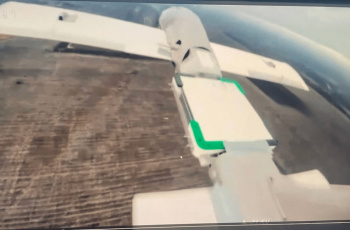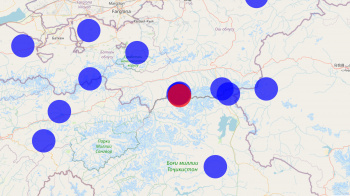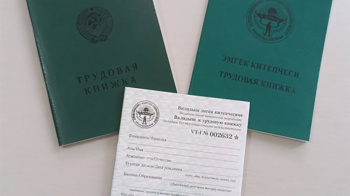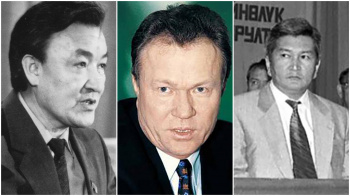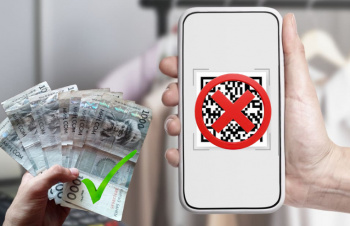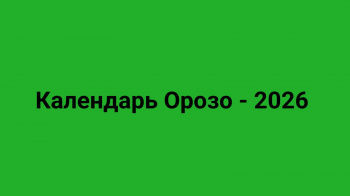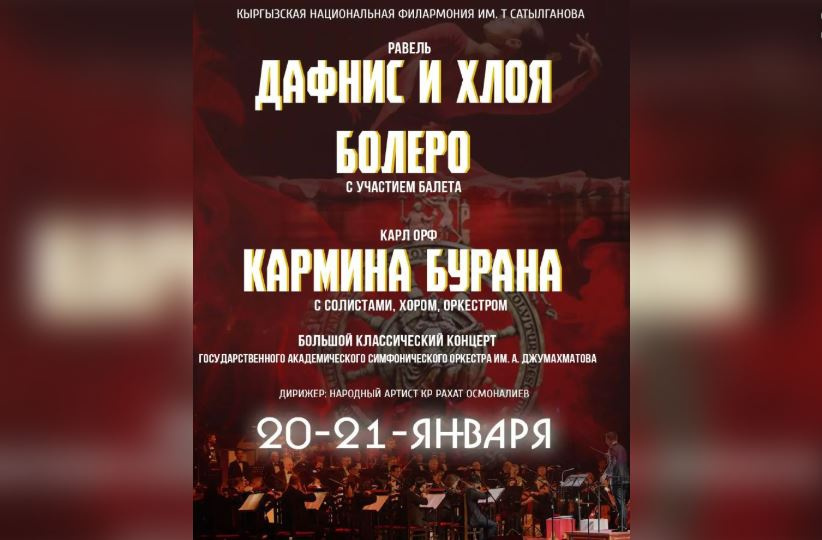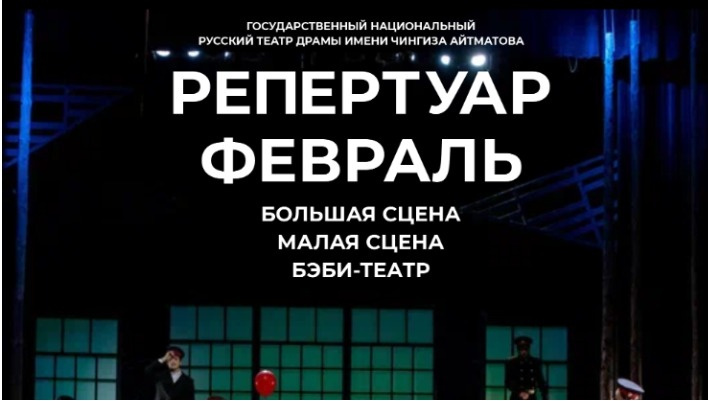Как изменились доходы, пенсии и жилищные условия кыргызстанцев за пять лет?
Уровень жизни населения Кыргызстана в последние годы претерпел значительные изменения. Пандемия, экономические колебания и социальные изменения существенно поменяли картину доходов, потребления и условий проживания кыргызстанцев. В сборнике "Кыргызстан в цифрах 2025" представлены данные, позволяющие оценить ключевые тенденции: от роста заработных плат и пенсий до сокращения бедности и изменения структуры потребительских расходов. При этом наряду с позитивными сдвигами статистика фиксирует и проблемные зоны - высокий уровень неравенства, ограниченную доступность жилья и резкий контраст между городом и селом.
Редакция Kaktus.media изучила данные, связанные с уровнем жизни населения.
Рост доходов и восстановление после спада
Среднедушевые денежные доходы населения Кыргызстана заметно выросли за последние годы. Если в 2020 году среднемесячный доход на душу населения составлял около 5 625 сомов, то к 2024 году он увеличился до 11 319 сомов, то есть вырос примерно вдвое. Такой рост обусловлен главным образом повышением заработной платы и предпринимательских доходов граждан. Номинальная среднемесячная заработная плата выросла с 18 940 сомов в 2020 году до 36 047 сомов в 2024-м. Даже с учетом инфляции рост реальной начисленной зарплаты был ощутимым: после спада в 2021 году (когда реальные зарплаты снизились примерно на 9% из-за пандемийных факторов), в 2022 году зафиксирован резкий рост (на 20,5% к предыдущему году), а в 2023-2024 гг. – дальнейшее умеренное повышение (на 7-8% ежегодно).
Реальные располагаемые доходы населения (доходы с поправкой на инфляцию и уплаченные налоги) также демонстрируют восстановление после спада 2020 года. В разгар пандемии 2020 г. реальные доходы сократились (~95% к уровню 2019 г.), однако уже в 2021 г. начался рост (107% к предыдущему году), продолжившийся в 2022 г. (+3,2%), и особенно усилившийся в 2023–2024 гг. (прирост 10,6% и 12,9% соответственно). Таким образом, к 2024 году реальные среднедушевые доходы населения превысили допандемийный уровень.
Структура доходов. В структуре доходов населения возросла доля трудовых доходов. В 2020 году около 67% всех денежных поступлений приходилось на доходы от трудовой деятельности, тогда как в 2024 году этот показатель достиг 72%. Иными словами, источником почти трех четвертей доходов населения стали заработная плата, предпринимательство и другие виды трудовой занятости. Одновременно незначительно снизилась относительная роль социальных трансфертов – с 16,7% до 15,1% от совокупных доходов, а доля доходов от личного подсобного хозяйства сократилась с 11,9% до 9,0%.
Рост доходов населения – позитивный тренд, однако важно учитывать, что значительная часть этого роста носит номинальный характер и пришлась на период повышенной инфляции. Так, величина прожиточного минимума (минимального потребительского бюджета) за 2020-2024 годы выросла почти на 50% – с 5 359 сомов в месяц в 2020 г. до 7 964 сомов в 2024 г. Это отражает удорожание базовых потребительских товаров и услуг. Тем не менее динамика реальных доходов показывает, что к 2024 году благосостояние среднестатистического кыргызстанца не только восстановилось после падения 2020 года, но и улучшилось в сравнении с докризисным уровнем.
Пенсионное и социальное обеспечение
Социальная поддержка населения в рассматриваемый период характеризовалась одновременным ростом размеров выплат и увеличением численности получателей.
Пенсии и пенсионеры. Численность пенсионеров в Кыргызстане неуклонно увеличивается – с 736 тыс. человек в конце 2020 года до 846 тыс. в конце 2024-го. Темпы прироста пенсионеров составляли около 3-4% в год. На каждую тысячу жителей теперь приходится 116 пенсионеров (в 2020 г. – 111), а соотношение занятых в экономике к числу пенсионеров колеблется около 3,1-3,3 работающих на одного пенсионера. Происходит процесс старения населения, что в свою очередь означает расширение охвата пенсионной системой, а также растущую нагрузку на бюджет Социального фонда.
Средний размер назначенной месячной пенсии повысился за эти годы. В 2020 году средняя пенсия составляла 6 102 сома, а к концу 2024 года – уже 10 717 сомов. Номинальный рост средних пенсий ускорился особенно в 2022 году (увеличение на 26,5% за год за счет индексаций и доплат), а затем продолжился в 2023-2024 гг. более умеренными темпами (около +15% ежегодно). Благодаря этим мерам удалось частично компенсировать влияние инфляции на пенсионеров: если в 2020-2022 гг. реальный размер пенсий снижался (на фоне роста цен пенсии не успевали за инфляцией и в сумме уменьшились примерно на 5-7% за три года), то в 2023 г. произошла фиксация – реальная пенсия выросла на 4,3%, а в 2024 г. еще на 8,8%. В результате средняя пенсия к 2024 году превысила прожиточный минимум пенсионера более чем на 50%, тогда как в 2020 г. это превышение было около 27%.
Социальные пособия. По данным на 1 января 2025 года, общее число получателей государственных ежемесячных пособий составило 329 тыс. человек. За 2020-2024 годы произошли структурные изменения в системе пособий: были повышены адресность и размеры выплат наиболее нуждающимся. Например, численность малообеспеченных семей с детьми, получающих пособие, сократилась (видимо, за счет повышения критериев или доходов семей) с 339 тыс. в начале 2023 г. до 218 тыс. к началу 2025 г., при этом средний размер этого детского пособия немного увеличился и составил примерно 1 400 сомов в месяц. В то же время размеры социальных пособий инвалидам и потерявшим кормильца были существенно проиндексированы. К примеру, пособие детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет выросло с 6 000 сомов (в 2023 году) до 8 000 сомов в месяц в 2024 году. В целом средний размер назначенных пособий по всем категориям увеличился: на начало 2024 г. он составлял около 2 868 сомов, а годом позже – уже 5 504 сома.
Финансы Социального фонда. Существенное повышение пенсий и расширение социальных выплат отразилось на бюджете Социального фонда. Доходы фонда от страховых взносов (отчислений с зарплат и др.) росли быстрыми темпами – с 33,2 млрд сомов в 2020 г. до 73,7 млрд сомов в 2024 г., что свидетельствует об увеличении фонда оплаты труда в экономике и легализации занятости. Однако пенсионные расходы фонда увеличивались еще быстрее: с 48,6 млрд сомов в 2020 г. до 93,2 млрд сомов в 2024 г. Иными словами, разрыв между поступлениями и выплатами сохранился. На страховые взносы приходится лишь порядка 64% общих доходов Соцфонда, остальное покрывается за счет бюджета и других источников. Доля расходов на выплату пенсий стабильно превышает 85% всех расходов фонда. Эти цифры указывают на структурный дефицит пенсионной системы и необходимость дальнейших реформ – либо по стимулированию занятости и зарплат (чтобы росли взносы), либо по оптимизации пенсионных обязательств, либо повышению бюджетных трансфертов. В противном случае увеличение числа пенсионеров и размера пенсий будет и дальше усугублять нагрузку на госфинансы.
Неравенство выросло, бедность возвращается к допандемийному уровню
Уровень бедности. Экономические шоки 2020-2021 годов заметно отразились на благосостоянии наименее обеспеченных слоев населения. Общий уровень бедности (доля населения с потреблением ниже черты бедности) взлетел с 25,3% в 2019-2020 гг. до 33,3% в 2021 году. Практически каждый третий житель страны оказался за чертой бедности на пике кризиса. В абсолютных цифрах численность бедных превысила 2,3 млн человек в 2022 году. Однако по мере восстановления экономики и усиления социальной поддержки ситуация начала улучшаться. Уже в 2023 году уровень бедности снизился до 29,8%, а по итогам 2024 года – до 25,7%, что почти вернуло показатель на допандемийный уровень. Иными словами, каждый четвертый кыргызстанец по-прежнему живет в условиях бедности, но тенденция последнего времени – нисходящая. Сокращение бедности на 4,1 процентных пункта в 2024 году во многом связано с ростом доходов от труда и индексацией соцвыплат. Тем не менее доля бедных семей все еще высока. Остается вопрос, устойчиво ли это улучшение или же оно во многом обусловлено временными факторами (например, повышением пособий перед выборами или благоприятными условиями на трудовом рынке).
Особое внимание привлекает уровень крайней бедности – то есть доля населения, живущего в условиях крайней нужды. До пандемии она была незначительной (менее 1% в 2019-2020 гг.), однако в 2021 году доля людей в крайней бедности подскочила до 6,0%. Фактически наиболее обездоленные группы населения сильнее всего пострадали в кризис. В 2022-2023 гг. крайняя бедность оставалась на уровне около 5%, несмотря на экономическое восстановление. Лишь в 2024 году удалось достичь существенного прогресса: уровень крайней бедности снизился до 2,7%, что, однако, все еще втрое выше допандемийного значения. Сокращение крайней бедности – позитивный знак, свидетельствующий о таргетированной поддержке самых бедных (например, через увеличение социальных пособий). Но сохраняющийся разрыв с докризисным периодом говорит о том, что часть населения по-прежнему живет в условиях, близких к выживанию.
Глубина и острота бедности. Помимо уровня бедности, статистика оценивает и такие показатели, как глубина бедности (насколько в среднем доходы бедных отстают от черты бедности) и острота бедности (учитывает и неравномерность среди бедных). Эти индикаторы также ухудшились в кризис: глубина бедности выросла с 4,4% в 2020 г. до 6,8% в 2022 г., а затем снизилась до 4,7% в 2024 г.. Острота бедности (индикатор, близкий к коэффициенту квадрата разрыва бедности) увеличилась с 1,1% (2020) до 2,0% (2021-2022) и вернулась к 1,3% в 2024 г.
Город и село. Пандемия существенно сгладила прежние различия между городом и селом в уровне бедности. В 2019-2020 годах бедность в городских поселениях была заметно ниже (около 18%), чем в сельской местности (около 29%). Однако в 2021 г. городская бедность резко подскочила до уровня сельской (сразу до 33%), то есть экономический кризис сильно ударил по горожанам, занятым в сфере услуг и городской неформальной экономике. К 2024 году ситуация несколько выровнялась обратно: бедность в городах – 22,9%, в селах – 27,8%. Оба показателя снизились по сравнению с пиком кризиса, особенно городской (почти на 11 пунктов ниже, чем в 2021). Тем не менее сельская бедность по-прежнему выше, что отражает более низкие доходы и ограниченный доступ к возможностям заработка в аграрном секторе. Экстремальная бедность сосредоточена преимущественно в сельской местности (2,8% против 2,6% в городах на 2024 г.), хотя разница уже не столь разительна, как была раньше. В целом, можно говорить о частичном восстановлении привычной картины: города вновь демонстрируют несколько лучшую ситуацию, но благополучие сельских жителей остается уязвимым местом.
Неравенство доходов. Одним из тревожных последствий последних лет стало существенное увеличение разрыва в доходах между богатыми и бедными. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) – ключевой показатель неравенства – повысился с 0,344 в 2020 г. до 0,422 в 2022 г., достигнув пика 0,434 в 2023 году. Лишь в 2024 г. наблюдается небольшое снижение неравенства (Джини = 0,412), однако показатель все еще значительно выше допандемийного уровня.
Справка
При Джини, стремящемся к 0, доходы равны у всех, при значении 1 – весь доход у одного человека. Уровень ~0,42 означает весьма высокое неравенство по мировым меркам, характерное для стран с серьезным разрывом между богатыми и бедными.
Другая мера дифференциации – квинтильный коэффициент (коэффициент фондов), показывающий во сколько раз средний доход 20% самых богатых превышает доход 20% самых бедных. Этот разрыв в Кыргызстане увеличился с 5,9 раз в 2020 г. до 8,5 раз в 2022 г., достигнув максимума 10,5 раз в 2023 г.. В 2024 году разрыв сократился до 9,1 раза, что тем не менее остается исторически высоким уровнем. Иначе говоря, пятая часть наиболее обеспеченных граждан суммарно получает почти половину всех доходов в стране (47-48%), в то время как на долю одной пятой самых малоимущих приходится лишь около 5% совокупных доходов. Рост неравенства, вероятно, связан с тем, что кризис сильнее ударил по низкодоходным категориям (мелкий бизнес, люди, работающие в обслуживающем секторе), в то время как часть обеспеченного населения смогла быстрее восстановить и нарастить доходы. Государственная политика в 2022-2024 гг. (повышение МРОТ, индексация пенсий и пособий, поддержка малого бизнеса) немного сгладила эти диспропорции, о чем свидетельствует небольшое снижение коэффициентов неравенства в 2024 г. Тем не менее разрыв остается значительно большим, чем в докризисные годы, что может иметь серьезные социальные последствия. Сокращение бедности при одновременном росте неравенства указывает на то, что плоды экономического роста распределялись неравномерно.
Рост потребления и улучшение бытовой обеспеченности
Структура потребления. С ростом доходов изменились и потребительские расходы домохозяйств. Средние ежемесячные расходы на одного человека увеличились с 3 351 сома в 2020 году до 6 026 сомов в 2024-м. Это свидетельствует о почти двукратном росте номинальных трат, значительная часть которого, впрочем, пришлась на инфляционное удорожание товаров. Более показательно изменение структуры расходов: доля затрат на продовольствие снизилась с ~51% до ~47% от всех расходов, тогда как доля непродовольственных товаров и платных услуг возросла. В абсолютном выражении средние ежемесячные расходы на питание выросли с 1 717 сомов до 2 808 сомов на человека, но их удельный вес упал. Расходы на непродовольственные товары поднялись с 847 до 1 614 сомов, а на услуги – с 787 до 1 604 сомов в месяц. Такая динамика обычно рассматривается как положительный признак: по мере роста благосостояния семьи могут тратить относительно меньше на базовые продукты питания и больше – на товары длительного пользования, образование, здравоохранение, отдых и другие нужды, повышающие качество жизни.
Бытовая техника и имущество. За 2020-2024 годы большинство ключевых показателей обеспеченности улучшились. Почти во всех семьях есть холодильники: на 100 домохозяйств приходится 102 холодильника (было 94 в 2020 г.). Насыщенность стиральными машинами выросла с 82 до 92 единиц на каждые 100 семей, то есть теперь подавляющее большинство домохозяйств имеют удобства для стирки. Значительно чаще в быту стали использовать электрические пылесосы: их обеспеченность поднялась с 39 до 52 на 100 семей, что говорит о распространении современной бытовой уборочной техники даже в регионах. Улучшилась и доступность личного транспорта – легковые автомобили имеются примерно у 32% семей (против 27% в 2020 г.). Несмотря на рост, автомобиль по-прежнему остается роскошью для большинства, особенно в сельской местности.
Интересно отметить, что персональными компьютерами владеют примерно столько же домохозяйств, сколько и пять лет назад (около 13 на 100 семей). Пик был в 2021 г. (15%), затем показатель снизился. Это может быть связано с переходом на мобильные устройства: проникновение смартфонов и мобильной связи чрезвычайно высоко. На 100 домохозяйств приходится 257 мобильных телефонов – в среднем больше двух телефонов на семью, что отражает почти полную мобильную подключенность населения, включая многосимочные устройства. Старые устройства вроде стационарных магнитофонов и видеомагнитофонов практически исчезли из обихода (с 12 на 100 хозяйств в 2020 до 4 в 2024) вследствие устаревания технологий.
В целом, за последние годы кыргызстанцы стали лучше оснащены бытовой техникой. Это позитивно сказывается на качестве жизни: сокращается время на бытовой труд, улучшается доступ к информации и коммуникациям. Однако некоторые аспекты указывают на сохраняющиеся различия в уровне жизни различных групп: далеко не каждая семья может позволить себе автомобиль или компьютер, и эти предметы сконцентрированы преимущественно в городах и среди более обеспеченных слоев. Тем не менее общая картина – медленное, но верное приближение к современному стандарту жизни, когда базовая бытовая техника доступна большинству домохозяйств.
Рост жилищного фонда, но ограниченная площадь
Доступность и площадь жилья. За пять лет совокупный жилищный фонд страны увеличился примерно на 10%, с 86,46 млн м² общей площади в 2020 г. до 95,71 млн м² в 2024 г. Это означает активное строительство нового жилья, особенно в 2023-2024 годах (рекордный ввод жилья – более 4 млн м² за 2024 г.). Однако быстрый рост населения нивелировал эффект от нового строительства: обеспеченность жильем в пересчете на душу населения практически не изменилась. В среднем на одного жителя Кыргызстана приходится около 13,0-13,1 м² жилой площади. Для сравнения, в 2020 г. было 13,0 м² на человека, в 2024-м – 13,1 м². В промежуточные годы показатель даже снижался до 12,7-12,8 м² из-за опережающего прироста населения относительно ввода жилья. Таким образом, проблема тесноты жилищных условий остается актуальной: многие семьи, особенно многодетные, живут в ограниченном пространстве.
Отдельно стоит отметить разницу между городом и селом. В городах жилой площади на душу больше (по Бишкеку и другим городским поселениям – порядка 14 м² на человека), тогда как в сельской местности – около 12-13 м². Это объясняется и большим средним размером семей в селах, и худшей обеспеченностью инфраструктурой. Кроме того, значительная часть сельских домов – одноэтажные дома старой постройки, где на семью может приходиться скромная общая площадь.
Очередь на жилье. Показателем нехватки жилья служит число граждан, официально состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Несмотря на ввод нового жилья, по состоянию на конец 2024 года около 12,2 тыс. семей (включая одиночек) стояли в такой очереди. За период 2020-2024 гг. этот показатель даже немного снизился (было 15,6 тыс. семей в 2020-м, затем ~11,9 тыс. в 2022-м после проверок очередников или реализации госпрограмм), но затем застыл на уровне немногим более 12 тыс. семей. Фактически ежегодно лишь считанные сотни семей получают новое жилье или улучшение условий по гослинии (например, в 2024 г. – около 0,1 тысячи семей, то есть порядка ста очередников решили свой жилищный вопрос). Это означает, что без кардинального увеличения объемов социального жилья или ипотечных программ очередь будет сохраняться десятилетиями. Доступность собственного жилья для молодых семей и городских низкодоходных слоев остается низкой.
Физическое состояние жилья. Позитивной частью является практически полное устранение ветхого и аварийного жилья в официальной статистике. Объем жилья, признанного ветхим или аварийным, сократился с 25,9 тыс. м² в 2020 году до 4,6 тыс. м² в 2024 году. В относительном выражении это уже менее 0,01% от всего жилищного фонда. Такая резкая динамика может говорить о том, что наиболее старые и опасные строения были либо отремонтированы, либо снесены и заменены новым жильем. Ветхие бараки, остававшиеся со времен советской застройки, практически исчезли из официального учета. Однако здесь стоит быть осторожным: статистика учитывает лишь формально признанное аварийным жилье. Некоторые семьи по-прежнему живут в плохих условиях (в старых сельских домах, в перенаселенных общежитиях), просто эти помещения не оформлены как аварийные.
Благоустройство и коммунальные удобства. Одним из наиболее острых вопросов остается оснащенность жилья базовыми коммунальными удобствами – водопроводом, канализацией, отоплением, газом. Здесь сохраняется резкий контраст между городом и селом.
В городах ситуация постепенно улучшается. На конец 2023 года около 73% городской жилплощади имело центральный водопровод, примерно 64% – канализацию, 34-35% – центральное отопление, 42% – газоснабжение. Однако в 2024 г. эти показатели несколько снизились (водопроводом оборудовано 68,8% городской площади, канализацией – 59,2%, отоплением – 32,7%). Такое снижение в статистике может быть связано с быстрым вводом нового жилья, которое не сразу оснащается центральными коммуникациями, либо с изменением методики учета. В целом же примерно две трети городского жилья обеспечено водой и канализацией, тогда как треть остается без этих удобств (возможно, это частный сектор на окраинах городов). Центральное отопление доступно лишь каждому третьему городскому жилищу – в основном в многоквартирных домах советской постройки, тогда как новое жилье часто отапливается автономно или вовсе печным отоплением. Лишь около 15% городских квартир имеют горячее водоснабжение (бойлеры или центральная горячая вода), то есть подавляющему большинству горожан по-прежнему недоступна горячая вода из крана без дополнительного оборудования.
В сельской местности коммунальная инфраструктура развита слабо. Только 15% сельского жилья обеспечены водопроводом (то есть 85% сельчан берут воду из колодцев, родников либо общественных колонок). Централизованная канализация и вовсе редкость – охват снижен до 6,3% в 2024 году, что означает, что почти все сельские дома не имеют подключения к канализационным сетям (используются выгребные ямы и наружные туалеты). Газификация сельского жилья составляет лишь 9,3%, и даже этот уровень сократился по сравнению с 2020 годом (около 15%), возможно, из-за прекращения баллонного газоснабжения в ряде районов или пересмотра данных. Центральное отопление в селе практически отсутствует (около 3% домов подключены к редким локальным котельным). Таким образом, сельские жители продолжают в основном полагаться на печное отопление углем или дровами, что создаёт дополнительные бытовые трудности и экологические проблемы.
Разница в благоустройстве между городом и деревней остается одной из самых острых социальных проблем. Она сказывается на таких вещах, как здоровье (из-за отсутствия чистой воды и канализации выше риски заболеваний в селах), образовательные и трудовые возможности (качество жизни влияет на исход миграции – многие молодые люди уезжают из сел в города или за рубеж). Несмотря на локальные проекты по воде и санитарии, прогресс пока недостаточно быстр, а по некоторым показателям, как видно, даже происходит откат. Вероятно, требуются крупные инвестиции в сельскую инфраструктуру, чтобы сократить этот разрыв и обеспечить базовые условия жизни повсеместно.