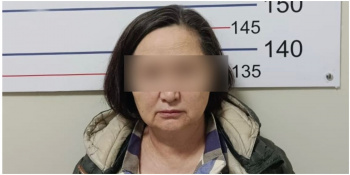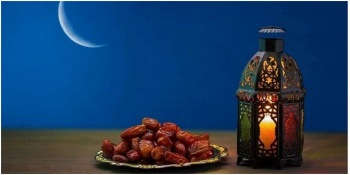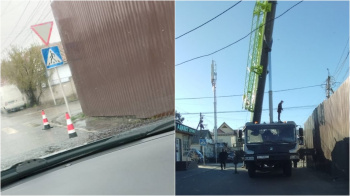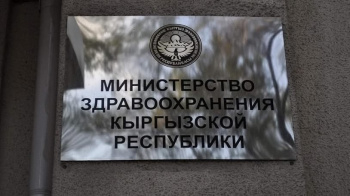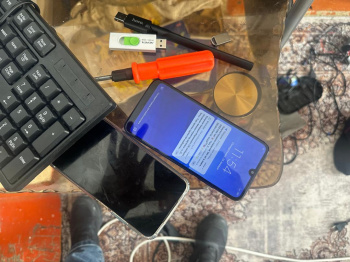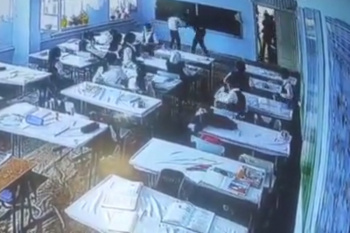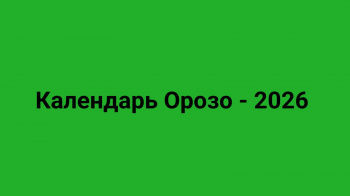Смертная казнь как возмездие и устрашение. Что показывает мировая практика?
В Кыргызстане тема смертной казни вновь выходит на повестку: сейчас рассматриваются предложения вернуть смертную казнь за тяжкие преступления вроде изнасилования детей и убийства с изнасилованием. На этом фоне важно понять, как обстоят дела с казнями в других странах мира, какие тенденции наметились за последние годы и отвечает ли смертная казнь заявленным целям – наказанию преступников и сдерживанию тяжких преступлений. Редакция Kaktus.media изучила мировую практику: сколько стран отказались от смертной казни, где она все еще применяется, по каким причинам некоторые государства возвращали ее.
Смертная казнь в мире
Большинство стран мира либо полностью отказались от смертной казни, либо не применяют ее на практике. По данным Amnesty International, на конец 2024 года 113 стран полностью отменили смертную казнь на законодательном уровне. Еще ряд государств сохраняют ее формально лишь за исключительные преступления (например, военные преступления во время войны) – таких стран девять. Кроме того, не менее 23 государств фактически не применяют смертную казнь (десятилетиями не проводят казней и придерживаются официального или де-факто моратория). В совокупности около 144 стран мира являются аболиционистами де-юре или де-факто.
Применяют смертную казнь по закону около 54 стран – их называют ретенционистскими, однако далеко не все из них проводят казни регулярно. В последние годы число государств, фактически приводящих смертные приговоры в исполнение, сократилось до минимальных значений. Так, в 2023 году казни были зафиксированы лишь в 16 странах – это рекордно низкий показатель за все время наблюдений Amnesty International. Для сравнения: в 2022 году смертные приговоры приводились в 20 государствах.
Региональные различия весьма заметны. В Европе действует почти полный запрет на высшую меру: смертную казнь там не применяют ни в одной стране, кроме Беларуси. Беларусь остается последней страной Европы, где сохранилась смертная казнь. Там был подтвержден как минимум один расстрел в 2022 году (в 2021 и 2023 годах казней не отмечено). Во всех остальных европейских государствах, включая Россию и всю Центральную Азию, действует либо полный запрет, либо официальный мораторий (как, например, в России с 1996 года и в Таджикистане с начала 2000-х). К примеру, соседи Кыргызстана – Казахстан и Узбекистан – окончательно отказались от смертной казни: Казахстан отменил ее в 2021 году, а Узбекистан – еще с 2008 года (до этого они длительно соблюдали моратории).
В Азии, Африке и Америке картина более пестрая. В Азии многие государства остаются приверженцами смертной казни – ее предусматривают законы Китая, Японии, Индии, большинства стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В Африке часть стран (например, Республика Конго, Габон, Южная Африка) отменили казнь, тогда как другие (Нигерия, Египет, Сомали и др.) продолжают применять ее. В Америке почти все государства Латинской Америки давно отменили высшую меру наказания, а США остаются единственной страной Запада, регулярно приводящей приговоры в исполнение. Однако и в США не все штаты казнят – более половины штатов отменили или приостановили применение смертной казни, и казни сконцентрированы лишь в отдельных регионах (преимущественно на юге страны).
В странах, активно применяющих смертную казнь, количество казненных измеряется сотнями (а в некоторых случаях – тысячами) в год. По официальным данным и правозащитным оценкам, мировым "лидером" по числу казней является Китай – там ежегодно приводят в исполнение, вероятно, тысячи смертных приговоров, хотя точные цифры засекречены. Если не учитывать Китай, то основную массу казней совершают несколько государств Ближнего Востока и Азии. В 2024 году, по информации Amnesty International, 87% всех зарегистрированных казней (без учета КНР) пришлись на Иран и Саудовскую Аравию. В самом Иране в 2023 году было казнено не менее 853 человек, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В Саудовской Аравии в том же году казнили 172 человека. Высокую активность также сохраняют Египет, Ирак, Северная Корея, Сомали, Йемен, США, Сингапур и некоторые другие страны. В целом в 2023 году в мире было официально задокументировано не менее 1 153 казней, что стало максимальным показателем с 2015 года. А в 2024 году число зафиксированных казней выросло еще – до 1 518 случаев (не считая скрываемых данных из Китая, КНДР и Вьетнама).
Возвращение смертной казни в последние годы
Несмотря на общий тренд к отказу от высшей меры, некоторые страны в последние 20 лет возвращали смертную казнь или расширяли ее применение. Обычно это происходило под влиянием крупных терактов, всплеска тяжких преступлений или общественного возмущения резонансными делами. Рассмотрим несколько примеров:
- Пакистан – имел неофициальный мораторий на казни с 2008 года, но в декабре 2014 года возобновил смертную казнь после страшного теракта. Поводом стала трагедия в Пешаваре: боевики "Талибана" атаковали школу и убили 132 ребенка (всего жертв было 162 человека). В ответ правительство Пакистана немедленно отменило мораторий для террористических преступлений. Уже через несколько месяцев казни возобновились не только для террористов, но и для других осужденных – под волну казней попали и обычные уголовники. Таким образом, под лозунгом борьбы с терроризмом Пакистан фактически реанимировал высшую меру наказания по широкому кругу преступлений (в законах страны их около 27, включая убийство, терроризм, похищения и пр.).
- Иордания – после восьмилетнего перерыва впервые применила смертную казнь в декабре 2014 года, казнив 11 осужденных убийц. А в феврале 2015-го, потрясенная казнью своего пилота боевиками ИГИЛ (его сожгли заживо), Иордания быстро привела в исполнение смертные приговоры в отношении двух террористов. Эти шаги фактически завершили негласный мораторий, который держался с середины 2000-х. Власти объяснили их необходимостью "дать жесткий ответ" террористам и продемонстрировать справедливость возмездия.
- Индия – традиционно редко прибегала к смертной казни, но в 2018 году ввела высшую меру наказания за изнасилование детей. На фоне ряда чудовищных случаев насилия над девочками (в частности, групповое изнасилование и убийство восьмилетней Асифы Бано в Кашмире) по всей стране прошли акции протеста. Под давлением общественного мнения правительство Нарендры Моди срочно одобрило постановление о введении смертной казни за изнасилование девушек младше 12 лет. Новые правила предусматривали и ускоренное следствие (завершение расследования изнасилований в двухмесячный срок) – таким образом власти пытались продемонстрировать жесткую реакцию на всплеск сексуального насилия. Примечательно, что до этого в Индии уже была предусмотрена смертная казнь за убийство, терроризм и некоторые другие преступления, однако фактически казни долго не исполнялись. После принятия поправок 2018 года в стране состоялось несколько показательных процессов, а в 2020 году были повешены четверо мужчин, осужденных за групповое изнасилование и убийство в Дели (резонансное "дело Нирбхая" 2012 года).
- Бангладеш – в октябре 2020 года власти этой страны также ужесточили наказание за изнасилование до смертной казни. Это решение приняли экстренно на фоне волн протестов против участившихся групповых изнасилований. Правительственный кабинет во главе с премьер-министром Шейх Хасиной одобрил соответствующую поправку в закон после того, как по стране прокатилась волна возмущения, вызванная видеозаписью издевательств над женщиной в округе Ноакхали. Тысячи людей вышли на улицы с плакатами "Смерть насильникам", требуя защиты женщин. Примечательно, что даже после введения высшей меры активисты выражали сомнения, что одних лишь казней будет достаточно. Они указывали на низкий уровень расследования сексуальных преступлений и почти полную безнаказанность, которая и привела к кризису.
- Индонезия – пример возвращения к казням под предлогом борьбы с наркотиками. После четырехлетнего перерыва (с 2008 по 2012-й) эта страна возобновила казни в 2013 году, а с приходом к власти президента Джоко Видодо резко активизировала их применение против осужденных наркодилеров. Видодо открыто заявлял, что страна переживает "наркотическую эпидемию" и что жесткие меры необходимы для спасения молодежи. В 2015 году Индонезия привела в исполнение сразу несколько смертных приговоров в отношении иностранцев, осужденных за контрабанду наркотиков, несмотря на критику и призывы ООН ввести мораторий. Такой шаг объяснялся властями именно сдерживающими целями – показать, что наркопреступления не останутся без высшей кары.
Кроме того, в ряде стран в 2010–2020 годах обсуждалось возвращение смертной казни под влиянием общественного мнения. Турция, например, после неудачного госпереворота 2016 года рассматривала возможность вернуть казнь для изменников и террористов – это активно поддерживалось частью общества, но так и не было воплощено (во многом из-за международного давления и европейских обязательств Турции). В России регулярно звучат призывы отменить мораторий и вернуть расстрелы за теракты и особо тяжкие преступления, однако официально мораторий продолжает действовать с 1996 года (Россия связана обязательствами перед Советом Европы). В некоторых штатах США пытались восстановить казни после длительных перерывов – например, Аризона и Южная Каролина возобновляли исполнение приговоров после технических пауз, объясняя это необходимостью правосудия для жертв. Таким образом, в разных странах причины возвращения смертной казни схожи: общественный страх и гнев перед лицом жестоких преступлений, стремление властей показать решительность и навести порядок, а также убеждение, что без высшей меры невозможно удержать ситуацию.
Однако важно отметить, что куда больше стран в последние годы шли по противоположному пути – отменяли казнь или ограничивали ее применение. В период с 2007 по 2023 год не менее 40 государств полностью отменили смертную казнь. Только за последние несколько лет: Казахстан, Центральноафриканская Республика, Сьерра-Леоне, Чад, Замбия, Папуа – Новая Гвинея и другие страны Африки и Азии законодательно упразднили высшую меру наказания. Даже Экваториальная Гвинея и Зимбабве – государства, где ранее применяли смертную казнь, – недавно изменили законодательство, отменив ее по обычным преступлениям. Многие из этих решений были мотивированы давлением правозащитников, стремлением соответствовать международным нормам и, как ни парадоксально, тоже заботой о безопасности граждан (через реформу правоохранительной системы вместо казней).
Мир движется к отказу от казней
Тенденция последних десятилетий однозначна: все больше стран отказываются от смертной казни. Еще в середине XX века казнь практиковалась почти повсеместно, но к 2020-м годам более двух третей стран мира стали либо полностью аболиционистскими, либо не применяют эту меру наказания на практике. По данным ООН, порядка 170 государств не проводят казней или отменили их законодательно – это примерно 88% всех стран. Для сравнения: на рубеже 1980-х таких стран было менее половины.
Международное сообщество также постепенно консолидируется вокруг идеи отказа от высшей меры. Начиная с 2007 года Генеральная ассамблея ООН регулярно принимает резолюции с призывом ввести глобальный мораторий на смертную казнь. Число стран, голосующих за мораторий, неуклонно растет: если первую резолюцию поддержали 104 государства, то в последней аналогичной резолюции 2020 года – уже 123 страны (против были лишь 38, остальные воздержались). Это свидетельствует о том, что большинство государств теперь считают смертную казнь нежелательной с точки зрения прав человека и эффективности правосудия.
Особенно заметен прогресс в Африке и Азии – двух регионах, где казнь исторически применялась широко. В Африке за последние 10–15 лет целый ряд стран отменили смертную казнь (например, Габон, Мадагаскар, Республика Конго, Буркина-Фасо, Чад, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская Республика, Замбия и др.). Даже там, где она сохраняется, нередко действует фактический мораторий (в Кении, Танзании, Гане и др. годами никого не казнят). В Азии, хотя большинство казней мира приходится именно на этот регион, тоже есть подвижки: Малайзия в 2023 году отменила обязательную смертную казнь и сокращает статьи, наказуемые смертью, Казахстан и Узбекистан полностью исключили казнь из своих кодексов, Таиланд и Монголия де-факто не казнят людей уже более 15 лет.
В Соединенных Штатах – единственной развитой стране, сохраняющей смертную казнь, – наблюдается постепенное снижение ее применения. Количество казней в США сократилось с пиковых 98 в 1999 году до 18 в 2022 году. За последние 15 лет 14 штатов США отменили высшую меру наказания, и теперь более половины штатов ее не используют. В 2021 году, например, Вирджиния стала первым южным штатом, отменившим смертную казнь, что стало историческим шагом для региона, где традиционно казней было много. Кроме того, в 2021 году федеральное правительство США вновь ввело мораторий на исполнения (после серии поспешных казней в 2020-м). Общественное мнение в Америке медленно смещается: доля граждан, поддерживающих смертную казнь, упала с ~80% в 1990-х до ~55-60% в последние годы, а поддержка альтернатив в виде пожизненного заключения растет.
Однако нельзя сказать, что отказ от смертной казни – абсолютный тренд без исключений. В некоторых странах сохранившиеся авторитарные режимы даже наращивают применение казни. Например, в Иране в 2022–2023 гг. число казней резко возросло (власти использовали смертные приговоры, в том числе, для устрашения после волнений). Саудовская Аравия в 2022 году провела рекордные за десятилетие 196 казней, несмотря на прежние обещания сократить их число. Мьянма в 2022 году впервые за несколько десятилетий совершила казнь (расстреляны четверо продемократических активистов) – это произошло после военного переворота, когда новые власти решили прибегнуть к высшей мере для запугивания оппозиции. Такие случаи показывают, что там, где политический режим жесткий, казнь остается инструментом подавления или демонстрации силы.
В целом же мир постепенно движется к отказу от смертной казни. Каждый год одна-две страны присоединяются к лагерю аболиционистов. Правозащитники отмечают, что сохранение казни все больше становится признаком изоляции: подавляющее большинство развитых государств и демократий обходятся без нее. Даже в странах, где население поддерживает идею казней, власти все чаще предпочитают мораторий, опасаясь ошибок правосудия и осуждения мировой общественности.
Смертная казнь как сдерживающий фактор
Одним из главных аргументов сторонников смертной казни является ее якобы сдерживающий эффект: считается, что страх быть казненным должен удерживать потенциальных преступников от совершения тяжких деяний. Законодатели, выступающие за возвращение казни, часто подчеркивают именно превентивную роль: мол, высшая мера будет предупреждать новые преступления. Но действительно ли работает этот механизм?
Большинство исследований криминологов и опыт разных стран не подтверждают наличие у смертной казни уникального устрашающего эффекта. Как отмечают эксперты, нет достоверных доказательств, что угроза казни снижает уровень убийств или иных тяжких преступлений эффективнее, чем не менее суровая альтернатива – пожизненное заключение. Национальная академия наук США в фундаментальном обзоре пришла к выводу, что современные исследования не позволяют сделать вывод, что казни хоть как-то влияют на статистику убийств. Проще говоря, нельзя утверждать, что отмена или введение смертной казни заметно меняет число тяжких преступлений в обществе.
Причин тому несколько. Во-первых, большинство преступников не рассчитывают попасться, а потому наказание (даже самое строгое) слабо учитывается ими при совершении преступления. Во-вторых, многие тяжкие преступления совершаются в состоянии аффекта, под влиянием эмоций, либо людьми с психическими отклонениями – такие преступники вообще не думают о последствиях или не отдают отчет своим действиям. Статистика убийств в разных странах и штатах не коррелирует с наличием или отсутствием казней: нередко регионы без смертной казни имеют более низкий уровень убийств, чем сопоставимые регионы, где казнь применяется. Например, в США исторически штаты юга, где казнят чаще всего, демонстрировали более высокие показатели убийств, чем штаты севера и востока, где казни либо отменены, либо крайне редки. Аналогично, Канада после отмены смертной казни в 1976 году не столкнулась с ростом убийств – напротив, их уровень постепенно снизился. В России, по данным социологов, с введением моратория в 90-е годы число убийств снизилось в четыре раза, а число изнасилований – в пять раз (хотя, конечно, здесь сказался комплекс факторов, и прямую причинно-следственную связь установить сложно).
Научные работы, пытавшиеся выявить "эффект устрашения" от казней, часто противоречат друг другу. Некоторые экономисты в 2000-х публиковали исследования, утверждая, что "каждая казнь предотвращает несколько убийств". Однако последующие проверки этих работ выявили серьезные методологические ошибки. Так, профессор Джеффри Фаган в обзоре для Колумбийского университета отмечал: нет надежных научных данных, подтверждающих, что казни могут отпугнуть потенциальных убийц. Малейшие изменения в статистической модели приводили к диаметрально противоположным выводам – вплоть до того, что по тем же данным можно вывести увеличение числа убийств в результате казней. Авторы ряда работ (Донохью, Вольферс и др.) подчеркивали: результаты столь чувствительны к допущениям, что доверять им нельзя. Национальная академия наук США прямо рекомендовала не опираться на эти сомнительные исследования при выработке политики.
Кроме отсутствия доказанного профилактического эффекта, некоторые эксперты указывают и на возможный обратный эффект – так называемый эффект брутализации. Согласно этой гипотезе, государство, практикуя смертную казнь, транслирует насилие в общество, тем самым как бы снижая ценность человеческой жизни. Есть данные, что в периоды активных казней может наблюдаться всплеск насильственных преступлений – возможно, из-за психологического "привыкания" общества к насилию как ответу на проблемы. Хотя единое мнение по этому вопросу не выработано, очевидно одно: ожидаемого резкого снижения преступности после введения смертной казни не наблюдалось ни в одной стране. Даже в вышеупомянутых случаях (Пакистан, Бангладеш, Индия), где казнь возвращали ради устрашения, ситуация с преступностью кардинально не изменилась: террористическая активность в Пакистане продолжилась, а в Бангладеш число изнасилований не прекратило расти сразу после принятия жесткого закона, поскольку коренные проблемы – низкое раскрытие и культура безнаказанности – остались.
Правоохранители и криминологи все чаще приходят к выводу, что неотвратимость наказания гораздо важнее его жестокости. Вероятность быть пойманным и осужденным действует на преступника сильнее, чем степень строгости наказания при абстрактной возможности. Смертная же казнь, затрагивая мизерный процент преступлений (только самые тяжкие и то далеко не все убийцы получают сроки), не может существенно повлиять на общий уровень криминала. В США, например, на каждое убийство шансы быть приговоренным к смерти крайне малы – это зависит от штата, категории дела, позиции прокурора, а потому потенциальный преступник даже не воспринимает казнь как реальную угрозу. Таким образом, аргумент о сдерживающей роли смертной казни во многом является интуитивным мифом, не подкрепленным статистикой. Как отметили в Amnesty International, нет никаких доказательств, что смертная казнь эффективнее в снижении преступности, чем пожизненное заключение.
Последствия возвращения казней
Вопрос о введении или возвращении смертной казни затрагивает не только криминологию, но и эмоциональное, психологическое состояние общества, его моральные ценности. Обсуждая казнь как высшую меру, политики часто апеллируют к чувствам людей – жажде справедливости, гневу к жестоким преступникам, страху перед ростом преступности. В краткосрочной перспективе жесткие меры могут дать обществу иллюзию решимости и безопасности. Но эта успокоенность зачастую мнимая и кратковременная.
Когда случается чудовищное преступление (особенно против детей или теракт), естественной реакцией людей становится гнев и желание возмездия. Требование смертной казни в такие моменты – это во многом эмоциональная разрядка, психологический способ толпы почувствовать контроль над ситуацией. "Расстрелять как бешеных собак!" – подобные призывы являются понятной, но примитивной реакцией испуганного и разъяренного общества. Чувство уязвимости и недоверия к институциям (правоохранительным органам, судам) подталкивает массу людей к идее простого и сурового решения: уничтожить преступников – и кажется, тогда всем станет спокойнее. В России, например, опросы показывают рост поддержки смертной казни в периоды общественного раздражения и агрессии – в 2021 году вернуть казнь хотели 57% россиян, хотя в более спокойные годы доля была ниже. Социологи связывают это с общим уровнем тревожности и озлобленности в обществе: чем люди больше боятся преступности и разочарованы в правоохранительных органах, тем сильнее запрос на казни как "простое решение".
Однако увеличение репрессивного насилия не делает общество психологически здоровее или спокойнее. Публичная казнь маньяка или террориста может принести кому-то удовлетворение от мести, но это не устраняет чувство страха у широкой публики. Более того, легитимация смертной казни может иметь моральную цену – государство демонстрирует, что лишение жизни допустимо во имя справедливости, а значит, жизнь человеческая перестает быть абсолютной ценностью. В обществе, пережившем эпохи репрессий, память об ужасающих ошибках (невинно убиенных) обычно формирует отторжение казней. Но если такой памяти нет или она вытеснена, сознание людей привыкает к мысли о допустимости убийства во благо.
Практический психологический эффект возвращения казней изучался на примере разных стран. Нередко сначала наблюдается эйфория справедливого возмездия – особенно у родственников жертв, у шокированной общественности. Но затем наступает отрезвление: люди понимают, что преступность никуда не делась, новых трагедий не стало меньше, а государство просто показало себе и миру свою жестокость. В каких-то сообществах казни могут вызвать и раскол – часть общества, особенно молодежь и образованные группы, начинает протестовать против "варварства", тогда как другая часть ликует. Подобное разделение было, например, в США во время возобновления федеральных казней в 2020 году: семьи жертв преступников часто поддерживали казнь, но правозащитная общественность и некоторые родственники тоже убитых призывали к милосердию, указывая, что убийство от имени государства не вернет погибших и лишь продолжит цепь насилия.
Важно также учесть, что смертная казнь необратима не только юридически, но и психологически для общества. Если со временем выясняется ошибка (казнен невиновный) или меняется режим, то общество испытывает чувство вины и моральной травмы. Примером может служить США, где сегодня во многих штатах выпускают документальные фильмы и статьи о прошлых казнях невинных – эти истории весьма болезненно воспринимаются людьми, заставляя сомневаться в самой системе правосудия.
С другой стороны, сторонники казней часто апеллируют к чувствам пострадавших. Для многих жертв и их семей сама мысль, что убийца или насильник будет жить (пусть даже в тюрьме), кажется вопиющей несправедливостью. Некоторые испытывают облегчение, зная, что казнь приведена в исполнение – это дает ощущение окончательного возмездия. В реальности казнь далеко не всегда приносит "закрытие". Чаще всего горе от утраты не уходит, и через некоторое время люди осознают, что смерть преступника не вернула им близкого, не излечила травму. Более того, годы ожидания исполнения приговора, повторные суды и апелляции (неизбежные в таких делах) только продлевают страдания семей, не давая им забыть трагедию. В этом смысле пожизненное заключение, при котором дело проходит быстрее и без длительных процедур, иногда психологически менее мучительно для родственников жертв.
Наконец, не стоит забывать и про тех, кто непосредственно участвует в процедурах казни – тюремный персонал, палачей, врачей. Исследования показывают, что участие в лишении жизни по приговору негативно сказывается на психике исполнителей: некоторые потом страдают от посттравматических стрессовых расстройств, алкоголизма, депрессий. Общество зачастую не думает, какой груз берут на себя эти люди, выполняя "волю правосудия". Таким образом, от практики смертной казни может страдать не только абстрактный преступник, но и вполне добропорядочные члены общества, вынужденные реализовывать смертный приговор.
Риск судебной ошибки
Смертная казнь является необратимой, и этим обусловлен самый весомый аргумент против нее – риск судебной ошибки. Ни одна судебная система не идеальна: бывают случаи, когда невиновного человека признают виновным в тяжком преступлении. Если впоследствии правда откроется, приговор всегда можно пересмотреть, невиновного освободить и реабилитировать – но только если он еще жив. В случае же смертной казни ошибка означает непоправимую потерю невинной жизни.
За последние десятилетия накопилось немало примеров, когда после казни выяснялось, что был казнен не тот человек. В одних случаях это официально признано государством, в других – новые доказательства убедительно указывают на ошибочность приговора, хотя власти порой не спешат признавать вину. Страны, где проводились такие расследования, впоследствии часто пересматривали свое отношение к смертной казни.
С 1973 года в США более 190 человек, приговоренных к смерти, были позже оправданы и освобождены, но уже посмертно. То есть сначала их признали виновными и назначили казнь, но в последний момент – иногда через десятки лет – нашлись доказательства невиновности. По оценкам профессоров Колумбийского и Мичиганского университетов, около 4% осужденных на смерть в США могут быть невиновны – некоторые из них, возможно, были уже казнены, но правда так и не открылась, либо ее признание заблокировано системой. В Китае были громкие случаи, когда через много лет после казни настоящие преступники сознавались в совершении преступления. Известный пример – дело Не Шубиня: молодого человека казнили в 1995 году за изнасилование и убийство, а спустя 21 год Верховный суд КНР его посмертно оправдал, найдя дело полностью сфабрикованным. К тому моменту настоящий преступник был пойман, и выяснилось, что Не Шубинь не совершал инкриминируемых деяний. Китайские власти официально принесли извинения семье казненного, что является редкостью.
Еще один свежий пример – дело Леделла Ли в США. Леделл Ли был казнен в штате Арканзас в 2017 году, несмотря на его заявления о невиновности и просьбы провести ДНК-экспертизу. Спустя четыре года, в 2021-м, проведенный анализ обнаружил чужой ДНК-профиль на уликах – ДНК на орудии убийства принадлежала не Ли, а другому, неизвестному мужчине. Этот случай получил огласку: возникает серьезное подозрение, что Арканзас казнил невиновного человека. Официально процесс по пересмотру дела после смерти не предусмотрен, но для общественности это стало еще одним сигналом о возможности роковой ошибки.
Подобные истории есть и в других странах. В Великобритании задокументированы случаи, когда людей вешали по обвинению в убийствах, а позже обнаруживалось, что убийства вообще не было (случай с Тимоти Эвансом в 1950-х) – именно такие трагедии побудили британцев отменить казнь в 1960-х. В Японии несколько человек, казненных до 1980-х, посмертно признаны невиновными; тамошняя система правосудия известна высоким процентом признаний под давлением, что тоже приводит к ошибкам. В России при сталинских репрессиях тысячи невинных были расстреляны как "преступники", и этот исторический опыт висит тяжелым грузом: до сих пор находятся реабилитированные жертвы тех ошибок, что усиливает страх перед возобновлением казней.
Даже одна судебная ошибка на миллион приговоров становится непоправимой трагедией, если речь о смертной казни. В ситуации, когда существуют альтернативы (пожизненное заключение), многие юристы и правозащитники считают такой риск абсолютно неоправданным. Высшая мера, по сути, требует абсолютной безошибочности следствия и суда – но в реальном мире добиться ее невозможно.